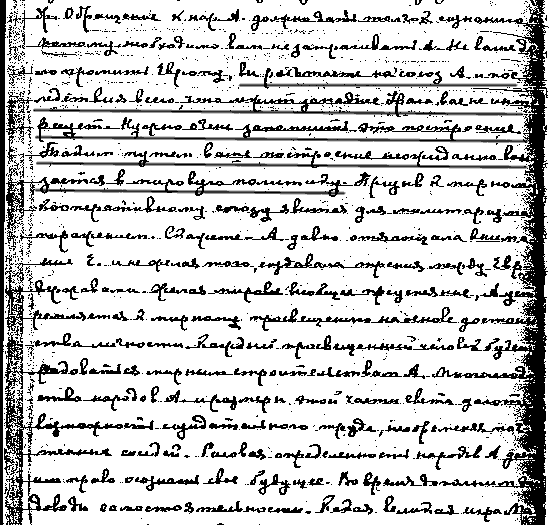Добавлено: 10 апр 2008, 07:28
Покровский Н.Н.: Спасибо, Владимир Андреевич! У кого есть вопросы? Пожалуйста, Сергей Александрович.
Красильников С.А.: У меня два вопроса. Первый – о ваших двух книгах, которые были опубликованы в 2002 и 2004 гг.; какой отклик на них в научной прессе? И второй вопрос – расскажите о судьбе двух братьев Николая Константиновича Рериха, о которых идет речь в диссертации. Один из них жил и работал в Ленинграде, а другой – в Маньчжурии.
Росов В.А.: Концепция «Новой страны», предложенная к рассмотрению, в том числе в монографии «Николай Рерих: Вестник Звенигорода», сразу же вызвала не только положительный отклик, но и противодействие, особенно в нашей стране. Тем не менее, эта концепция принята научным сообществом. Она включена в труды отечественных и зарубежных исследователей, таких как Александр Андреев (Россия), Джон Маккэнон (Канада), Руфь Драйер (США); также упомянута в монографии Фомина, специалиста по истории религии. Что касается братьев Рерихов, один из них, Владимир Константинович, помогал брату осуществлять кооперативный проект в Маньчжурии и участвовал в движении «Пакта мира» за сохранение памятников культуры во время вооруженных конфликтов. Он жил в Харбине, до того был участником Белого движения, умер в эмиграции в 1951 г. А Борис Константинович Рерих, архитектор, после революции оставался в Петрограде-Ленинграде. Когда Николай Рерих приехал в 1926 году в советскую Россию, то братья встретились и началось сотрудничество. Он включился в деятельность по концессиям, стал представителем корпораций «Белуха» и «Ур» в Союзе.
Красильников С.А.: Если можно, то уточните судьбу Бориса Константиновича после 1926 г.
Росов В.А.: Он дважды сидел в тюрьме, в 1927 году ему ставили в вину деятельность в международных организациях. И в 1931-ом Борис Константинович второй раз был арестован, затем выпущен из тюрьмы. В дальнейшем занимался архитектурной работой, переехал по службе в Москву и вскоре, в 1945 году, умер.
Покровский Н.Н.: У кого ещё вопросы? Пожалуйста, Михаил Викторович, ваш вопрос.
Шиловский М.В.: Вот вы отнесли Рериха к активным деятелям, которые в тот период времени беспокоились о судьбах России и какие-то концепции вырабатывали, но почему-то вы не упомянули евразийцев. Это принципиальная позиция?
Росов В.А.: Николай Рерих и его сын, Юрий Рерих, активно участвовали в деятельности Археологического института имени Кондакова в Праге. Этот институт, и до его учреждения «Семинариум Кондаковианум», являлись завязью евразийской мысли и деятельности евразийцев в Европе. Рерих активно откликнулся на сотрудничество с пражским институтом и, естественно, был связан с евразийцами лично и через своего сына. В последние годы вышла переписка Рерихов, старшего и младшего, с евразийцем Георгием Вернадским. Особенно интересны письма Николая Рериха, опубликованные Сорокиной в сборнике «Диаспора», они подтверждают идейную связь с евразийским течением.
Покровский Н.Н.: Кто ещё? Пожалуйста, Вячеслав Иванович, ваш вопрос.
Молодин В.И.: Владимир Андреевич, я внимательно познакомился и с работой, и с отзывами многочисленных ваших оппонентов. Один из упреков, который делается вам, это то, что вы изучили действительно большой корпус архивов, но почему-то, как они пишут, не использовали архивы МЦР. Это или какое-то недоразумение, или... В чем дело? Или вы посчитали, что к диссертации особого отношения они не имеют? Мне не очень понятно.
Росов В.А.: Можно к 27-ми архивам добавить и архив МЦР. Это было бы целесообразно. Но, дело в том, что Международный центр Рерихов – это довольно непростая организация. Она общественная, даже, можно сказать, частная, и туда было всегда сложно получить доступ. В 1990-х гг. мне приходилось обращаться туда неоднократно. Например, известный ученый из Санкт-Петербурга, Александр Андреев, который писал о русских путешественниках и о Рерихе, тоже не получил доступ. Однако дело даже не в этом. Архив МЦР состоит как бы из 2-х частей: одна часть была привезена из Бангалора, из имения Святослава Рериха в 1990 году, а вторая – была получена почти через десять лет из Дели, из Российского центра науки и культуры. Первоначально архив Рерихов хранился в их имении в Наггаре, долине Кулу. И это как раз самая интересная для исследователей часть, которая связана с Маньчжурской экспедицией. Там есть уникальные документы. Случилось так, что я единственный, кому удалось познакомиться с этими материалами в самом Дели, в 1995 году. Я предпринял две поездки в течение полугода и работал там достаточно долго. Что касается бангалорской части архива, то в большей части документов он представлен в собрании музея Рериха в Нью-Йорке, причем именно в оригиналах, а не в копиях, как в МЦР. Об этом писал в российской прессе директор нью-йоркского музея Даниил Энтин. Его статья опубликована в «Литературной газете» в ноябре 2006 г. Так что материалы архива МЦР потенциально мне хорошо известны.
Покровский Н.Н.: Есть ли ещё вопросы? Нет. Спасибо, Владимир Андреевич. Слово предоставляется Умбрашко Константину Борисовичу – председателю комиссии по подготовке дополнительного заключения.
Умбрашко К.Б.: Глубокоуважаемый Николай Николаевич, Вячеслав Иванович, Владимир Александрович, уважаемые коллеги. Я представляю точку зрения комиссии нашего совета, которая подготовила проект лежащего перед вами заключения. Позвольте, уважаемые коллеги, я не буду его зачитывать, поскольку он всем роздан перед началом заседания. (Покровский Н.Н.: не надо зачитывать.) Отмечу только основные моменты. Начну с того, что комиссия предельно внимательно подошла к изучению материалов, представленных в наш совет. (Покровский Н.Н.: и ВАКом, и другими организациями.) Не только сама диссертация, автореферат, диссертационное дело, но и материалы полемики также нами были изучены досконально. В результате проделанной работы комиссия подготовила данный проект Заключения, лежащий перед вами. Следует специально подчеркнуть, что при подготовке данного заключения члены комиссии своей главной задачей поставили выявление степени соответствия работы В.А. Росова требованиям, которые предъявляются к докторским диссертациям ВАКом. Комиссия пришла к выводам, которые изложены в проекте заключения.
Автор выбрал совершенно новый аспект в изучении биографии Рериха – это геополитический характер его деятельности. Следует признать, что такой аспект не только имеет право на существование, но и, судя по тексту диссертации, позволяет представить колоссальную фигуру Николая Константиновича Рериха более многопланово, многогранно. В данной работе личность Рериха представлена не только как культурного деятеля мирового масштаба, но и как организатора, администратора, дипломата и политика. Именно этот аспект в рериховедении является наименее изученным, поэтому можно только приветствовать попытку диссертанта написать работу в этом направлении. На основе изучения материалов экспедиции Рериха в Центральную Азию В.А. Росов попытался выстроить более или менее цельное представление о политических настроениях и взглядах Рериха и их влияние на его практическую деятельность. Своим исследованием он расширил имевшиеся у историков и политологов представления о характере мировых противоречий в 1920-1930-х гг. в Азии и сделал общую попытку раскрыть взаимосвязь и взаимообусловленность культуры и политики, показать неправомерность их разделения. Поэтому в плане исторического науковедения данная диссертация является весьма важной.
Уважаемые коллеги, основные замечания нашей комиссии касаются введения диссертации. Введение работы носит обзорный характер и не позволяет наглядно представить важнейшие результаты проделанного исследования. Нужно отметить, что диссертант досконально изучил и использовал значительную базу источников как литературного, так и архивного характера. Часть из них была введена в научный оборот впервые, что подтверждает научную новизну исследования. Уже говорилось, что проведен анализ 27 архивов не только в России, США, Индии, но и во Франции, Чехии. Такой объем проделанной работы делает честь автору и подтверждает достоверность и обоснованность результатов исследования, хотя и не равноценных в некоторых случаях. Однако при характеристике источниковой базы дается лишь общий обзор архивов и документальных фондов, а не их анализ. В своем выступлении Росов отметил, что подробный обзор источников есть в его публикациях, просто он не стал его дублировать в тексте диссертации. Об архивных фондах МЦР сегодня уже говорилось не раз, на наш взгляд, все-таки можно было, хотя бы в приложении, показать основные группы этих источников более детально, более подробно.
Важнейшим показателем ценности любого диссертационного исследования является анализ изученности рассматриваемой проблемы, историография темы. В этот раздел почему-то попали дневники Рерихов, записки других участников сибирского путешествия. Это, конечно, все следовало отнести к источникам. Далее. Экспедиционная деятельность Рериха показана на фоне исторических событий в мире. Но автор не дает четкой характеристики отдельных периодов отечественной истории и не подчеркивает сущностные различия этих периодов – 1920-е и 1930-е годы. 1920-е – это НЭП, 1930-е годы – по сути дела, это сталинский режим. Еще одно замечание касается заключения диссертации. Оно шире материалов, которые представлены в основном тексте. Поэтому часть выводов автора не подкреплена конкретным материалом основной части. И последнее. На взгляд комиссии, название работы не полностью соответствует её содержанию. Этого замечания могло и не быть, если бы был дан, например, подзаголовок «социально-политические аспекты».
Кроме того, хочу специально отметить, что комиссия самым внимательным образом рассмотрела замечания, которые высказывались по ходу защиты в Санкт-Петербурге, в отзывах оппонентов и в отзывах на автореферат. Комиссия считает, что эти замечания сделаны по существу, носят объективный характер и с ними вполне можно согласиться. В итоге следует отметить, что в целом диссертация В.А. Росова является самостоятельным и законченным исследованием, в котором освещена крупная исследовательская проблема современной исторической науки. Однако данное диссертационное исследование содержит ряд указанных недочетов. В этой связи, уважаемые коллеги, хочу развеять ваше недоумение относительно концовки представленного проекта. Наша комиссия не посчитала возможным выносить окончательный вердикт по рассматриваемой диссертации, и наша принципиальная позиция состоит в том, что это должен сделать наш уважаемый совет после процедуры обсуждения данной работы. Спасибо за внимание!
Покровский Н.Н.: Спасибо, Константин Борисович. Слово Молодину Вячеславу Ивановичу.
Молодин В.И.: Спасибо, Николай Николаевич! Глубокоуважаемый Николай Николаевич, глубокоуважаемые члены совета, коллеги. Честно говоря, я был удивлен, когда ВАК предложил мне присутствовать на этой процедуре перезащиты работы. Наверное потому, что у меня где-то лет 5-6 тому назад, не помню точно год, вышла книга, посвященная академику Рериху. Называется «Рерих-археолог», мы её написали вместе с моей аспиранткой Лазаревич Ольгой Вячеславовной и покойным Петром Петровичем Лабецким, страстным поклонником, любителем творчества Н.К.Рериха. Книга имела, скажу прямо, примерно так же, как и эта работа, разные отклики – от восторженных до уничижительных. И я думаю, что это не случайно, потому что существует очень много всевозможных центров, обществ, и у нас в стране и за рубежом, которые достаточно пристально отслеживают всякую публикацию, посвященную Николаю Константиновичу, и относятся к этому чрезвычайно ревностно. Вот это меня очень удивляет, кстати говоря, потому что, как мы знаем, деяниям Иисуса Христа посвящены десятки монографий, и очень серьезных, и церковь никогда не выступала как противник подобного рода исследований. С моей точки зрения, чем больше будет появляться таких работ, чем больше серьезных исследований – тем лучше, потому что это все более высвечивает грандиозную личность. Действительно грандиозную: это был и прекрасный археолог, с моей точки зрения, но есть такой известный археолог Формозов, который сейчас, на 80-х годах своей жизни, начал искать истину и ругает всех и вся, в т.ч. и нам досталось. Он написал, что вот создали книгу о Рерихе, а на самом деле Рерих видным археологом и не был. Там он ошибался, тут он ошибался, но когда работал Рерих? Начало XX в. – и как у археолога, конечно же, у него был другой концептуальный подход, и были ошибки, конечно. Вот одна оценка. Есть другие оценки, скажем, статья Шапошниковой, недавно вышедшая, где она целиком оценивает личность Николая Константиновича. В данном случае, где речь идет об археологии, это довольно большой раздел ее статьи, и все ссылки делаются на нашу работу. Видимо, это не случайно, что к работе В.А. Росова был проявлен столь пристальный интерес, это субъективное положение дел, но оно учитывается очевидно. Скажу сразу, что я внимательно ознакомился и с самой работой, и с откликами на неё. С моей точки зрения, эта работа в существенной степени дополняет наше представление о Николае Константиновиче. В ней нет ни одного дурного слова об этом человеке: напротив, и это правильно, справедливо, потому что это была действительно грандиозная личность и ученый, и художник гениальный, и философ, и поэт, и то, что он занимался политической деятельностью, с моей точки зрения, очевидно. На всех встречах с деятелями, руководителями советского государства, с деятелями белого движения, с лидерами азиатских стран, США он не просто встречался, он обсуждал очень серьезные вопросы и проблемы политического характера. Поэтому когда пишут в упрек диссертанту, что Рерих никогда не занимался политикой, это совершенно неверно, с моей точки зрения. И как раз эта особая грань деятельность Николая Константиновича освещена в этой работе. Надо быть благодарным нашему соискателю, что он взял на себя этот очень непростой труд и показал его итоги в своей диссертации. Ничего плохого и предосудительного я здесь не вижу. Конечно, оценивая Николая Константиновича таким образом, мы вольно или невольно должны оценивать и эти действия, и они порой противоречивы. Но это же надо понимать, что это трагедия людей, прошедших Гражданскую войну, в которой, как известно, победителей не бывает, это трагедия народа. Десятки, сотни офицеров царской армии приняли революцию, они верно служили верой и правдой стране и были потом офицерами и генералами Красной армии. Вспомните знаменитое произведение М.А. Булгакова «Бег», где это показано. По-моему, он как никто другой показал судьбы этих людей, которые просто страдали, выехав в эмиграцию. Была очень сложная жизнь у этих людей, и тоска по родине, это – патриоты своего отечества, так же как люди, которые приняли идеалы революции, и повторяю, что это трагедия народа и трагедия этих людей. Многие из них меняли свой вектор. Можно назвать лидеров даже контрреволюционных организаций в Европе, которые потом были сотрудниками ГПУ, как известно, и эти факты можно привести. И судить их за это нельзя, с моей точки зрения, нельзя. Одним словом, все тут не просто, и как мог тот же Николай Константинович, попав в Харбин, не встретиться со своим братом, не встретиться с представителями этих контрреволюционных организаций, был ли он сотрудником ОГПУ, или не был?
(реплика Соскина В.Л.: по мнению акад. B.C. Мясникова, он был.)
Варлен Львович, это тоже вопрос... ну даже если он и был... Поэтому ставить в упрек диссертанту раскрытие политических планов Н.К. Рериха я бы не стал, он попытался дать взвешенную картину. По существу я хочу сказать следующее. 1-е: заявленная соискателем тема диссертации с анализом жизни и творчества Н.К. Рериха как политического деятеля 1920-30 гг., безусловно, имеет право на существование. И может быть единственное, у меня это записано, я бы согласился с мнением наших уважаемых членов совета, которые анализировали работу, название работы не вполне, с моей точки зрения, соответствует её сути, действительно нужен был подзаголовок, что рассматривается политическая деятельность Николая Константиновича. Но право на существование такая тема вполне имеет, и она, с моей точки зрения, очень неплохо реализована. 2-е: работа построена на основе принципиально новых архивных материалов, я не буду их перечислять, они показаны и в работе, и в автореферате, подчеркну лишь, что многое из этого корпуса, очень многое введено соискателем впервые и проанализировано впервые. Кстати говоря, когда мы работали над нашей книгой, то выпал очень существенный фрагмент творческого наследия Николая Константиновича, связанного с проживанием в США. Но когда он там жил, он занимался активно и этнографией, и мы пытались достать хоть какие документы. И мы обратились в Музей в Нью-Йорке, но нам ответили (есть это письмо), что, к сожалению, не располагают такими данными. Но теперь мне понятно, когда я читал работу, там написано, что часть фондов была закрыта, открыта только в 2003-2004 гг., и к чести соискателя, он все это поднял, ввел в научный оборот. И у меня был вопрос по поводу использования архива Международного рериховского центра, с моей точки зрения, Владимир Андреевич все объяснил, но может это в тексте надо было объяснить более внятно, что часть архивов он обрабатывал в Дели и т.д. И 3-е, новизна работы: во-первых, это введение нового корпуса источников, во-вторых, их достаточно строгий анализ, который дан, и, я ещё раз подчеркиваю, высветил по-новому грань жизни Николая Константиновича как видного политического деятеля. Мне кажется, что данная работа, её результаты прошли достаточно широкую апробацию на различных конференциях, основные выводы опубликованы и в монографических исследованиях, и в ряде статей, и в серьезных журналах. Спорных вопросов много, но, мне кажется, обсуждать их надо на страницах научных работ, в печати, это никому не запрещено, и наверное, это нужно будет делать и будет сделано. Это – наука, если мы будем со всем соглашаться, ну что это будет за наука? У меня есть ещё замечание, в автореферате указан принцип научной объективности – это о методах исследования. Я не совсем понимаю, что это такое. В итоге могу сказать, что у меня нет сомнений, что данное исследование серьезно, оригинально, закончено. Невозможно объять необъятное, и конечно, можно было ещё какие-то архивы привлечь и т.д. Но я думаю – это дело будущего. И у меня нет никаких сомнений, что научная работа состоялась, и её автор достоин присуждения ему искомой степени доктора исторических наук. Спасибо!